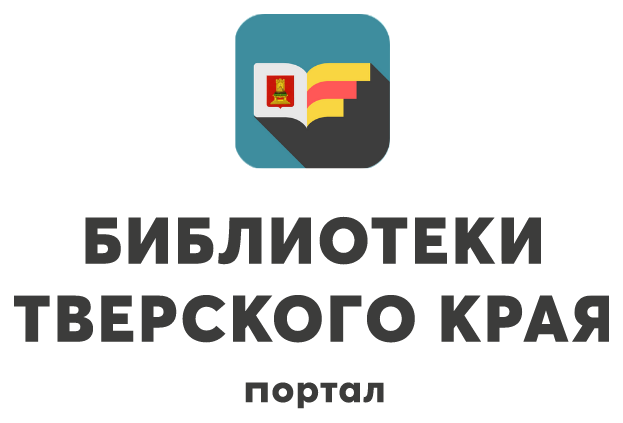Бежецкая центральная библиотека им. В.Я. Шишкова в социальных сетях:
Шишков В.Я. «Да здравствует жизнь»
Великая Отечественная война застала Вячеслава Яковлевича Шишкова в Пушкине. Перед занятием Пушкина фашистами Шишковы переехали в Ленинград и поселились в квартире №87, во втором этаже дома, который был расположен на канале Грибоедова.
В доме №9 на канале Грибоедова жил и Лев Раковский. В воспоминаниях о В.Я.Шишкове он пишет:
«…Иногда в холодные, голодные, тёмные-тёмные вечера зимы 1941года я спускался со своего четвёртого этажа, где у меня была квартира, к ним, во второй, отвести душу в дружеской беседе при скудном свете малюсенькой лампочки-коптилки, мы пили чай с микроскопическими кусочками сахара, каким-то чудом сбережёнными рачительной Клавдией Михайловной, невольно вспоминали о недалёком, но почти фантастическом прошлом: о пирогах, разных соленьях и печеньях и вкусной снеди, которую так искусно готовили в хлебосольном доме Шишковых…»
Литератор М.Гордон в статье «Все в этом человеке вызывало уважение» писал:
«…Вместе с другими писателями Шишков дежурил на крыше дома, наловчился сбрасывать оттуда зажигательные бомбы. Немало сил требовали и ежедневные походы в столовую писателей Войного за супчиком, в котором «одна крупинка гоняла другую». Так он обосновался на Невском, 2. Поставили ему койку в одной из комнат, старались немного подкормить в нашей столовой. Вячеславу Яковлевичу было тогда около 70-ти лет, блокада города фашистами совсем подорвала его здоровье, но он работал наравне с другими: правил солдатские письма, корреспонденции сотрудников. К сожалению, литературная правка этого замечательного мастера русского слова не сохранилась.
Потом он стал писать статьи. Я отчётливо помню ту февральскую ночь 1942 года, когда Вячеслав Яковлевич принёс статью «Россия поднялась во весь рост». Он писал при свете коптилки: электричества не было. Я сидел в полушубке за столом,.. вошёл Шишков, укутанный чуть ли не с головой в тёплый платок.
- Вот мой опус,- сказал он. - Почитайте. А потом позовите меня – спать всё равно не буду…
«Теперь она поднялась, - так о России пишет автор статьи. - И горе врагу!»
Наша земля никогда не оскудевала героями… Но нынче этот героизм русских людей принял массовый характер, овладел такими толщами народа, как никогда прежде в истории».
Обо всём увиденном, пережитом Шишков написал в одном из своих рассказов о Великой Отечественной войне, который называется «Да здравствует жизнь!» Сколько жизненной энергии, оптимизма, веры в победу нужно было сохранить в своей душе, чтоб в тяжелейших условиях блокады, холода и голода написать рассказ с таким названием, с таким содержанием, как этот.
-
Шишков В. Я. Избранное / В. Я. Шишков ; редактор В. Камянский. - Калинин : Калининское областное книжное издательство, 1949 [вып. дан 1950]. - 451, [1] с. : портр. ; 19 см. Перед загл. авт.: В. Я. Шишков
Содержание:
Помолились;
Краля;
Тайга;
Алые сугробы;
Алчность;
Таежный волк;
Прокормим!;
Гордая фамилия;
Любопытный случай;
Буря;
Да здравствует жизнь;
В.Я. Шишков (Автобиография)
В 2023 году Бежецкая центральная библиотека приняла участие в Межрегиональном конкурсе рецензий на произведения В.Я. Шишкова, объявленным Алтайской краевой библиотекой им. В.Я. Шишкова к 150-летию со дня рождения писателя Вячеслава Шишкова.
Рецензия на рассказ Шишкова В.Я. «Да здравствует жизнь!»
Работая в библиотеке, и не просто библиотеке, а именной, Бежецкой центральной им. В.Я. Шишкова Тверской области, всегда удивлялась, что в сборники Вячеслава Яковлевича Шишкова не вошёл рассказ «Да здравствует жизнь!». Только в четырёхтомнике 1958 года, да редкой, уже имеющей библиографическую ценность, книге В.Я. Шишкова «Избранное» Калининского книжного издательства 1949 года выпуска, нашла этот рассказ о жизни в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.
В автобиографии Шишков писал «Город Пушкин (б. Царское Село), где я имел постоянное место жительства, покинул я внезапно: пришлось бросить всё лично-бытовое хозяйство, всю обстановку, библиотеку, даже архив, - было бы постыдно попасть в руки к врагу. В Ленинграде, в тяжёлых условиях блокады, прожил я осень и зиму 1941 года, зиму и весну 1942 года – время мучительно тревожное, холодное, голодное. Упорно продолжая работать над «Пугачёвым», я в то же время написал несколько рассказов и статей для фронтовой газеты «На страже родины». Когда мои силы совершенно иссякли, я вынужден был перебраться в Москву (15 апреля 1942 года)».
Возможно, именно, потому что писатель на себе испытал все тяготы военного времени и блокадного города, рассказ «Да здравствует жизнь!», написанный в 1943 году, получился такой пронзительный и трогательный. Главные герои – семилетняя девочка Верочка и ее двенадцатилетний брат Павлик. С началом войны их жизнь резко изменились: Павлик «бомбил» кукол сестрёнки, читал историческое книжки, рассматривал географическую карту Европы, изучал «…движение врага в глубь России, его стремительные броски к Ленинграду. И маленькое сердце Павлика наполнялось негодованием к захватчикам-фашистам».
У Вячеслава Яковлевича Шишкова не было детей, но он очень любил своего племянника Митю, умного и талантливого, трагически погибшего в 28 лет. Из воспоминаний о В. Шишкове Н. Завалишиной: «Он [Шишков] просидел много часов у его постели, много средств потратил – только бы спасти дорогого человека. Долго не мог оправиться Вячеслав Яковлевич от этой потери. С тех пор на его письменном столе всегда стоял огромный портрет Мити».
Весь короткий рассказ «Да здравствует жизнь!» пронизан любовью и состраданием к детям, страдающим от голода, холода и бомбёжек. Как пересилить и заглушить в себе чувство голода, когда у тебя в руках судок с тёплой кашей из рабочей столовой отца. Началась бомбёжка. А вдруг убьют, а каша пропадет?! Надо съесть её! «Верочка истерично завизжала: «Не смей, не смей! – и со всех сил два раза ударила брата кулаком в ухо. Павлик чуть не подавился кашей. Он сразу отрезвел, пришёл в себя. И чувство голода в нём исчезло. Его охватил жгучий стыд».
«Да здравствует жизнь!» - это гимн милосердию. Бурю эмоций вызывает сцена с верным псом Азоркой. Продукты на исходе, перед членами семьи встаёт выбор: что делать с собакой. Усыпить? «Да ещё подержим… Посмотрим… Конечно, жаль, - сказала мать, откидывая запачканной рукой спустившиеся на лоб волосы. Вот если б удалось сплавить его знакомому охотнику-леснику. А то он становится нам в тягость». И никаких других вариантов даже не возникает. А ведь мы знаем, чем питались жители во время блокады.
Блокадный Ленинград – это не только голодный, замерзающий город. Это город – солдат, город труженик, непобедимый Ленинград! «По всему городу многие тысячи жителей расчищают тротуары, дороги, вывозят снег из дворов. Возле «Дома книги», что против Казанского собора, пожилой художник, тепло одетый в лопарские унты и малицы, пишет на морозе масляными красками перспективный вид Невского с погоревшим Гостиным двором...». И вот уже повзрослевший Павлик, ученик ремесленного училища, «определил себя на путь прямой и верный, путь служения родине своей».
Жизнь писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова – пример служения Родине. С начала Великой Отечественной войны, продолжая работать над историческим романом «Емельян Пугачёв», много писал на «оборонные темы». В 1943 году, в связи с 70-летием, за выдающиеся успехи в области литературы, В.Я. Шишков был награжден орденом Ленина.
«Гордость бежецкой земли», так говорим мы, земляки писателя, о Вячеславе Яковлевиче Шишкове.
Елена Кукина, г. Бежецк, 2023
I
Верочке было около семи лег, ее брату Павлику наступил двенадцатый. Он не без гордости говорил:
— Я теперь настоящий стал. Я человек.
— А я не человек, по-твоему? — сказала Верочка, и на ее розовощеком курносом личике проступила пасмурь.
— Нет, не человек. Во всяком случае, в данный текущий момент.
Верочка вскинула голову и с обидой в голосе спросила:
— А что же я?
— Ты человечица! И чрез сто лет будешь не человек, а человечица. Посмотри в грамматике. Женский род. Умный — умница, человек — человечица...
Баран этакий, — сказала обиженная Верочка и надула губки.
— Ежели я баран, то ты овца. Не веришь, посмотри в грамматике. И тебя волк с’ест.
Уж вот нет, так нет, — возражала Верочка, всплескивая руками. — Волки все перестреляны, дядя Володя перестрелял.
— Ха-ха! — презрительно воскликнул Павлик. — А в зоологическом? Не видала, что ли? Целое семейство живет... Да и вообще...
— Там — в клетке. А в лесу нету...
В лесу их масса! И в полях тоже.
В клетке, в клетке! - капризно закричала Верочка.
Да и сам дядя Володя говорил: их никогда и не перестрелять, говорит. Помнишь?
— В клетке, в клетке, в клетке! — не слушая его, выкрикивала Верочка. Вот ужо я маме на тебя пожалуюсь, баран такой! — и она, притопывая туфлями, убежала со слезами на глазах в спальню к матери.
II
Такие разговоры между сестрой и братом были возможны до войны. А вот теперь, год спустя...
Ну, теперь война идет, и все стало по-другому, и разговоры стали совсем не те. Другими стали и дети.
Павлику минуло двенадцать лет. Он в войне и во всех событиях понимает теперь, пожалуй, не многим меньше отца и безусловно больше матери, а про сестру и говорить нечего. Верочка, ровным счетом ничего не понимает. У ней только и занятий, что с утра до вечера она упаковывает в шкатулочку кукольное добро и на Павликовых игрушечных автомобилях и самолетах эвакуирует своих кукол из одной комнаты в другую. Тоже занятие, ха-ха…
А кукол у нее много: Катя большая, да Катя маленькая, фарфоровая Маруся, безносая Сонечка из мастики, три деревянных раскрашенных Марфутки, два негра — Жан да Жак, еще Петр Иваныч и Федор Федорыч, еще плюшевый Мишка, слон со слоненком, козел, обезьяна, зайчик, да всего и не перечесть: коровы, лошади, гуси-лебеди, серый волк. Только одних неповрежденных кукол было девятнадцать да восемь пострадавших: безносых, одноруких, культяпых. Но ведь, по человеческому милосердию, и их надлежало эвакуировать в место безопасное.
Павлик же, освободившись от занятии серьезных, тоже иногда предавался игре, только игра у него была не детская, а строго военная: он бомбил и обстреливал комнаты.
Для бомбежки с воздуха он ухищрялся устраивать особые довольно сложные приспособления. С помощью переносной лестницы он натягивал под потолком бечевку, к ней привязывал своего изобретения проволочные крючки, а к крючкам подвешивал бомбы. К каждому крючку прикреплялся особый шнурок: дернешь за него, и вот — бомба летит вниз. Небольшие бомбы — это гири от весов грузом в полкило и меньше. А самая большая бомба, в тонну, то есть в тысячу килограммов, — это медная ступка. Чтоб не попортить паркетного пола, Павлик, по ходу падения бомб, постилал ковровую дорожку. А звук разрыва изображал большим медным тазом в три четверти аршина диаметром. Этот таз в момент приземления бомбы он со всей силы швырял плашмя в голый пол.
Взрыв первой такой бомбы произвел столь ошеломляющее впечатление на спящего сеттера Азора, что собака вскочила, затем упала, затем снова вскочила и с каким-то испуганным визгливым тявканьем, поджав хвост и вся ощетинившись, помчалась, как угорелая, вон из комнаты. А кот Филька фыркнул, плюнул, подпрыгнул на аршин и, выгорбив спину и поджав уши, сигнул на печку. Оттуда долго смотрел хищными, ненавидящими глазами на хохотавшего проказника, сердито урчал.
Верочка же, когда Павлик собирался грохнуть об пол тазом, зажимала уши и кричала:
— А вот и не страшно, а вот и не страшно!
Однажды Павлик сбросил самую тяжеловесную бомбу, но взрыва не последовало. И вот уже игра Павлику надоела, он в бумажный рупор протрубил отбой. Верочка вывела из бомбоубежища, то есть из-под дивана, всех своих кукол и поместила их в обычное место, а сама уселась под окошком за книгу. Когда она увлеклась чтением и про все на свете позабыла, сзади нее вдруг раздался страшный грохот таза. Верочка вздрогнула, выронила книгу, схватилась за сердце, едва передохнула, обругала брата:
— Дурак! Я сейчас маме скажу... Бомба не падала... Ты не имел права. Дурак!
— Ты ничего не смыслишь в бомбах. — заносчиво произнес Павлик. — Это бомба замедленного действия.
Верочка в ту ночь плохо спала, бредила. Павлик получил от родителей строжайшее запрещение не только метать бомбы замедленного действия, но и вообще упражняться в бомбежке.
Ну да и хорошо. Павлику игра в бомбежку приелась, он обратился теперь к обычным своим занятиям, главным образом к чтению исторических книг про Наполеона, про Суворова, Кутузова. Больше же всего Павлика увлекали книжки с путешествиями и журналы со статьями об изобретателях. Он любил также рассматривать географическую карту Европы, да не просто рассматривать, а изучать движение врага в глубь России, его стремительные броски к Ленинграду. И маленькое сердце Павлика наполнялось негодованием к захватчикам-фашистам.
Он изредка прочитывал военные статьи в газетах, рисовал, как умел, схемы сражений, спорил с отцом, делал несбыточные предсказания о ходе войны. Иногда отправлялся с отцом слушать доклады на военные темы. Павлик по своим собственным рисункам, которые он гордо называл «техническими чертежами», мастерил самолеты, подводные лодки, танки. При этом он пользовался папиной готовальней, транспортиром, треугольниками— его папа инженер-механик. Модели получались довольно красивые, раскрашенные в защитный цвет или в яркие тона. Верочка с завистью глядела на эти затейливые игрушки и просила брата сделать ей кукольный домик, но Павлик, обозвав ее малосознательной девчонкой, наотрез отказался.
III
Впрочем, обстоятельства вскоре изменились к худшему, и Павлику пришлось сократить часы занятий. Враг становился назойливым, враг не давал спокойно жить.
Вот, например, вчера... С утра до ночи на Ленинград было семнадцать вражеских налетов. Не успеешь после отбоя подняться из убежища к себе в квартиру, как снова начинают выть сирены, значит — опять беги по темным, обледеневшим лестницам спасаться в подвал. Тут уж не до занятий.
Наблюдать жизнь в убежище было интересно: все приходят с чемоданами, с наиболее ценными вещами, с едой. Музыканты захватывали с собой трамбоны, скрипки. Верочка приносила штук пять кукол и обязательно плюшевого Мишку.
Электрические лампочки под потолком, а вдоль стен кровати и скамейки, на кроватях старики и ослабевшие люди спали в шубах, в шапках, в валенках. Крестовые своды убежища кое-где подперты деревянными столбами. Сначала было довольно шумно, оживленно: взрослые вели разговоры о продуктовых карточках, о том, что в столовых вместо супа дают какую-то бурду, что на рынке нарасхват дуранда, что появился в продаже столярный клей, из него можно готовить хороший студень: не очень противный, но питательный. Дети тем временем, забыв всякие страхи, затевали возню: носились взад-вперед, устраивали чехарду, играли в прятки, в пятнашки, падали, плакали, сильно раздражали взрослых. Никакие окрики коменданта убежища не могли остановить их.
— Тише, граждане, тише! взывал комендант, расхаживая вдоль сводчатого подвала. — Матери, уймите своих детей. Тихо, тихо!
Но вот слышится удар и взрыв упавшей бомбы. Земля резко вздрагивает, лампочки под потолком мигают, а иногда и гаснут, в убежище сразу наступает тишина.
Бомба ударила близко. У присутствующих сжимаются сердца. Сжалось сердце и у Павлика. Раздаются то здесь, то там тяжелые вздохи, шопот:
— Ой, как бы не в нас, как бы не в наш дом... Только бы не засыпало убежище.
Древняя старушка судорожно хватается за продуктовую сумку. Там у нее кусок хлеба, чашечка с остатками пшенной каши, бутылка с чаем: все-таки, ежели засыплет убежище, можно подкрепить свои силы, пока не подоспеет помощь. Старушка крестится и шепчет морщинистыми губами:
— Отведи, господи, грозу. Не дай окаянному врагу удачи.
Павлик все это примечает. Вот вторая, третья, четвертая бомбы. Удары все дальше, все глуше. Появляются люди с улицы, говорят:
- Наши «ястребки» летают. Бомба разбила дом за каналом Грибоедова. Как ахнула, так донизу все четыре этажа.
Проходит четверть часа томительного ожидания. Вдруг открывается дверь, ведущая в убежище из квартиры дворника, выбегает четырехлетний Коля в белой рубахе с поясом, по-деловому об’являет:
Глаздане! Отбой!
Из квартиры раздаются по радио радостные звуки ритурнели: та-та, тати-тата. И все с облегченными вздохами расходятся по домам. Надолго ли?
Маленькому Коле очень приятно возвещать отбой. Серыми глазами он всякий раз с детской пытливостью смотрит на выходящую из убежища толпу, и его бледное личико покрывается улыбкой: вот он крикнул, и все обрадовались, крикнул, и все пошли домой, старики и старухи, дяди и тети, девочки и мальчики, ха-ха-ха! Он и еще раз выйдет, и еще раз крикнет: «Глаздане! Отбой!» Да он готов каждый час кричать, лишь бы налеты были, он бомбов не боится, ему бомбы наплевать, а вот очень хочется кушать... Бывало, молочка давали, чаю с сахаром давали, конфеток, селедок, мяса да сыру, да еще плюшек самых вкусных мать покупала, всего хоть доотвалу ешь, и есть-то не особенно хотелось тогда; тятенька иной раз и подзатыльник даст: «Чего не жрешь, постреленок! Ешь вдосыт, а то расти не будешь». А вот теперь и хлебца-то по выдаче, и кашки-то разок-другой лизнуть, а о сахаре и думать нечего, ему сахар во сне стал сниться. Чтоб провалился этот самый немец!
В те дни, когда не было налетов, Коля скучал.
Но вот завыли по городу сирены, Коля бежал, как на боевую службу, с улицы домой, садился возле радио и весь какой-то подобранный, настороженный нетерпеливо ждал отбоя и час, и два. Иногда он заходил к Верочке, играл с ней в куклы. Верочкина мать, Марья Павловна, уж всегда чем-нибудь покормит Колю. Нос и губы у него в каше, он клал ложку, вздыхал и говорил: «Пасибо».
Павлик тоже любил позабавиться с Колей. Они одевали сеттера Азора в старый папин пиджак, передние собачьи лапы вставляли в рукава, полы застегивали на спине, а на задние лапы надевали Павликовы трусики. Собака была как в брюках. Дети хохотали. На шум и смех приходила Марья Павловна, она тоже принималась смеяться. Собака, видя вокруг себя веселящихся хозяев и угадывая, что это потешаются над ней, начинала без устали крутить шерстистым, как страусово перо, хвостом, с игривостью подпрыгивать, визгливо подлаивать и по-собачьи улыбаться. Дети вели собаке на показ к бабушке Павлика, — она жила через коридор в комнатке напротив. Бабушка — очень приятная и добрая старуха, в очках. Глядя на большого пса в брюках, она тоже немало смеялась. Затем говорила:
И зачем ты, Павлик, мучишь животное?
— Это, бабушка, не мученье, а ученье, — возражал ей Павлик. — Вы, бабушка, в цирке бывали? Дрессированных зверей видали? Инцидент исчерпан.
Дети выводили Азорку на улицу. И там, при виде потешной собаки, унылые, бледные, испитые лица прохожих сразу прояснялись, звучал редкий в ту пору смех. Только косоглазый дядя в фартуке сердито сплевывал и говорил:
— Да, порядочки... По-о-рядочки у нас... Вот ужо собак жрать будем. И этот пес-барбос попадется кому-нибудь в котел.
Дядя был порядочно выпивши либо шатался от голодной болезни. Павлик над всем этим задумывался и домой приходил печальный. Папа, узнав о собачьем маскараде, сделал Павлику строгий выговор и пригрозил плеткой. Ох, уж этот папа...
Так проходило время. Смешное путалось со страшным, как белое и черное, как день и ночь. Должно быть, так всегда бывает в жизни.
IV
Но вот кольцо блокады охватило осажденный Ленинград почти со всех сторон, и город стал подвергаться жестокому артиллерийскому обстрелу.
Обстрел! Слово для многих новое, слово страшное. Оно оказалось особенно страшным для маленького Коли: при первом же обстреле отец его, дворник, был на улице Желябова убит. Он пошел в киоск купить папирос, осколок снаряда попал ему в затылок. II еще было убито и ранено там семнадцать человек.
Колиного отца похоронили в гробу. В эту пору еще была возможность хоронить умерших в гробах, хотя и самодельных, по-топорному сколоченных, но все-таки в гробах.
Отец Павлика говорил:
— Обстрелы опасны тем, что никто не знает — когда и где они возникнут.
Артиллерийские снаряды, пускаемые врагом с далекого расстояния, со свистящим визгом невидимкой летели по небу. Слепые, начиненные смертью, они несли людям страх, увечье, гибель. Они ударяли в стены домов, в набитые людьми трамваи, в хлебные очереди, иногда через окно вонзались в квартиры и там, взорвавшись, производили опустошение, уничтожали жителей. Полоса обстрелов только началась, но настрадавшийся народ уже смятенно загадывал: когда же, когда это кончится?
Осиротевший Коля не так уж сильно горевал об отце, Коле не до этого... Ему все время хотелось есть, и эти мысли о еде были мучительней мыслей об отце. Тем не менее, при бомбежках Коля продолжал быть на своем боевом посту. Под звуки ритурнели он все так же из своей коморки выбегал в убежище и бодро возглашал:
— Глаздане! Отбой!
Увлекающийся военным делом Павлик стал играть в обстрел: в нем еще не погасли детские шаловливые наклонности. Он маленькими камушками обстреливал из рогатки комнаты, норовя главным образом попасть в сестренкиных кукол. Верочка эвакуировала их в другую комнату. Павлик туда же переносил и свои обстрелы. Они возникали у него тоже внезапно, как и настоящие.
Однажды, обстреливая дремавшего на письменном столе кота Фильку, Павлик разбил папин абажур. Папа оттряс Павлика за вихрастые волосы, а рогатку бросил в печку.
— Стыдись, - сказал отец сыну. — С рогатками только хулиганы забавляются, стекла бьют. Уж ежели в тебе такой военный пыл, я присмотрел для тебя монтекристо, знаешь? И с патронами.
— Но... папочка, ведь это же слишком дорого,- захлебнулся восторгом Павлик.
. — Я не на деньги, — сказал отец. — Я договорился с Иваном Иванычем. Знаешь? Ты завтра отвезешь ему на салазках вот эти книги и получишь взамен монтекристо.
— И вам, папочка, не жалко книг? - почтительно спросил Павлик, с опасением заглядывая в глаза отца, как бы тот не передумал.
— Книги и вещи дело наживное. Война окончится, снова можно приобрести, - сказал отец. — А вот Азорку жаль... Усыпить придется.
Павлик, очень любивший умного сеттера, даже руками всплеснул и закричал:
— Папочка! Что вы! Почему?
— Сам знаешь, почему, — грустно сказал отец.
У Павлика навернулись слезы. Ему уже не в радость был и монтекристо. Павлик пошел в кухню. Исхудавший пес сидел возле стола, где мать крутила в мясорубке кусок конины. Он сладко и просительно заглядывал ей в глаза и пускал слюни.
— Мама... начал было Павлик, и голос его оборвался. Ему как-то неловко сделалось начинать разговор о судьбе собаки в ее собственном присутствии, ему почему-то казалось, что умней пес может понять его.
И Павлик стал из’ясняться с матерью полунамеками:
— Мама! Неужели... нельзя, чтоб... чтоб … Ведь жалко... - и мальчик показал глазами на собаку.
— Да еще подержим... Посмотрим... Конечно, жаль, — сказала мать, откидывая запачканной рукой спустившиеся на лоб волосы. — Вот если б удалось сплавить его знакомому охотнику-леснику. А то он становится нам в тягость.
Пес умными человечьими глазами посмотрел на грустное лицо Павлика, затем в лицо хозяйки, вздохнул и, опустив хвост и размеренно постукивая когтями по паркету, пошел в кабинет. Там, в углу возле дивана, был его постельник. Павлик поглядел ему вслед, спросил:
— Неужели он догадывается?
— Он все слова понимает, — ответила мать.
Войдя в кабинет, Павлик опустился перед собакой на колени, стал гладить ее, говорить:
— Хороший, хороший мой Азорик.
Собака стучала в пол хвостом, признательно лизала мальчику руки, глаза ее были влажны. Павлик сбегал в кухню, отломил корочку от своего хлебного пайка и принес ее Азору.
V
Ах, какая удивительная штука — монтекристо! И патронов можно купить в «Динамо» сколько хочешь.
Павлик обучался стрельбе в убежище. Это длинный коридор, и цель можно было относить на большое расстояние. К Павлику учиться стрельбе приходили его сверстники со всего дома. На стрельбище всегда присутствовал в качестве зрителя и маленький Коля.
Первые уроки стрельбы давал отец Павлика — Дмитрий Петрович, хороший охотник. Он нарисовал на фанере фигуру пучеглазого немца с трубкой в зубах, и мальчики с особым удовольствием всаживали в немецкое брюхо маленькие пули. Пристрелявшись к ружью, Дмитрий Петрович сказал:
— Ну, теперь смотрите, ребятки: первую пулю я кладу немцу в переносицу, вторую — в левый глаз, третью — в правый.
Как сказал Дмитрий Петрович, так и вышло. Дети пришли в восторг: продырявленный немец перестал пучить глаза и стоял с перебитым носом.
Маленький Коля от радости закричал, захохотал и принялся бить в ладоши.
Отлично стал стрелять и Павлик. Он даже умудрился подстрелить в убежище оплошавшую крысу.
Павлик говорил:
— Ну и полуплю я немцев! Пусть только сунутся к нам... Из настоящей винтовки... Мне папа купит.
— Никогда они не сунутся сюда, — возразил ему мальчик. — Мы ни в жизнь этого не допустим.
— Ха. не допустим! — передразнил Павлик товарищей. — А вы разве не слыхали, что вчерашней ночью возле Казанского собора ракеты пускали? А кто пускал? Диверсанты, немцы. Их надо уничтожать.
— Их, говорят, поймали. Да ведь их много... Они и на Выборгской стороне, говорят, сигналы давали, и возле Троицкого моста...
— Вот то-то и есть, - сказал Павлик. - А когда диверсантов истребят, тогда и Красной Армии легче будет.
Мальчики пробовали было играть в войну, но на это нехватало у них времени: надо стоять в очередях за хлебом или бежать в столовую за полуголодным обедом, либо помочь маме наколоть и напилить дровишек, да мало ли... Павлику тоже было недосуг.
На игру у мальчиков времени не было, зато они, по совету Дмитрия Петровича, решили организовать пожарную дружину. В дружине двенадцать взрослых и крепких мальчиков; Павлик — бригадир, а товарищ его, ученик ремесленного училища Ваня Ездаков, — правой его рукой. На дворе и по этажам теперь полный порядок: песок, лопаты — все на своих местах.
Как-то глубоким вечером, во время бомбежки, в убежище быстро вошел управдом и сказал:
Граждане... Только без волнения, спокойно. На наш дом сыплются зажигательные бомбы...
Что он еще говорил и какой шум и гвалт поднялся в убежище, мальчики не слыхали, — по команде Павлика: «Дружина, за работу!» они прытко сорвались с мест и в один момент побежали на улицу.
Павлик увидал необычную картину. За невысоким каменным забором пылали в соседнем дворе деревянные постройки: дровяные склады, уборные, разный сухой хлам. Густые клубы темнокрасного дыма медленно плыли к звездному небу. Но Павлику и его дружине некогда разглядывать, надо приниматься за работу: в их собственном дворе тоже начинали пошаливать озорные огоньки.
— Давай, давай! — кричали люди с ломами, топорами, лопатами, растаскивая воспламенившиеся ящики. Этих ящиков был полон двор, они завезены сюда как топливо и для устройства ставней. Сверху, из-под крыш, летели во двор жар-птицами горящие бомбы. С криком: «Лови, туши!» — их вышвыривали дежурные.
Мальчики-дружинники и взрослые особыми клещами или же просто руками в нагольных рукавицах хватали за хвост эти чортовы свечи, совали их в ушаты с водой или затаптывали в песке. Суматоха, гвалт. Горящие ящики растаскивались быстро, очаги огня глушились водой или вбивались каблуками в землю. Еще четверть часа — и все приведено в порядок.
У Павлика была разорвана куртка, из руки струилась кровь, у старшего дворника опалена борода и на руках волдыри от ожога. Приятелю Павлика отдавили ногу, он похромал к себе, но не заплакал.
Все отметили усердную работу дружинников-подростков. На другой день им была об’явлена благодарность участкового управления жилищами, а через два дня в газете появилась о них поощрительная заметка. Павлик выстриг ее и вклеил в свой альбом на память.
VI
Стояли морозы. Ночами были удивительно яркие звезды. А днем, через легкий туман, зимнее солнце казалось огненно-красным. Оно походило на шар из расплавленной, начавшей охлаждаться меди. В такие тихие, безветреные дни на всем лежала какая-то нежная розоватая голубизна. Эх, если б не эти проклятые обстрелы!.. Особенно хороши были покрытые густым инеем деревья. Александровский парк за Невой, Летний сад, или небольшой сквер с бронзовым памятником Екатерине на фоне изумительного своими пропорциями бывшего Александрийского театра с чугунными над порталом конями. Вся эта картина: легкий туман, сизоватые дали, красный шар в небе и сотканные из белого пуха деревья — была зрелищем поразительным.
Но в эту памятную зиму редкий из ленинградцев останавливал свое внимание на красотах природы и дивного города: у каждого была охапка житейских забот: где добыть хлеба, как добыть хлеба, куда побежать за водой — от стужи вода в нетопленых домах замерзала. Всюду очереди, транспорт хромал, бензину нехватало, трамваи остановились, хлеб поступал в продажу с перебоями.
Блокада Ленинграда усиливалась, наступило время несчастное: недоедание перерастало в голод, за голодом шли болезни, за болезнями шагала смерть.
Все чаще стали появляться кое-как сколоченные из старых досок гробы с мертвецами. Их везли на маленьких, иногда спаренных санках слабосильные люди, они хоронили своих отцов, матерей, детей, сестер, братьев. Павлик видел: на большие санки был вместо гроба положен шкаф, в нем два мертвеца: отец и сын. Их вез за полкило хлеба и десять картошек широкоплечий человек.
Начали попадаться покойники, запеленанные, за отсутствием гробов, вроде мумий — в простыни и в одеяла. Бывало и так: шел-брел изнемогший человек малолюдным переулком, упал, пошевелил белыми губами, чтобы позвать кого-либо на помощь, закрыл глаза и умер. Посторонние не уберут его: нет сил, нет никаких возможностей. Родственники не скоро-то найдут покойника, да, может, их. и на свете нет! Уберет его милиция или дворник соседнего дома. С озлобленным брюзжанием он втащит труп в свою обледеневшую прачечную: лежи, мертвец, жди своей очереди.
Затем стали появляться подкидыши. Иные обреченные люди уже не в силах были отвозить своих усопших на кладбище. Поздним вечером или ранним утром, когда еще темно, они подкидывали трупы во дворы, в парадные крыльца, оставляли возле больниц или бросали где придется. Случалось, что мертвецы валялись беспризорно и день, и два. Разыгравшаяся вьюга иногда укутывала их белым снегом, навевала над ними негрузный могильный холмик.
Поначалу смотреть на все это было жутко, затем глаз привык.
И привыкло человеческое сердце.
Павлик за этот необычный год стал взрослым, вдумчивым, и ко всему, что видел, он относился по-серьезному. Он сумел рассмотреть в несчастной повседневности блокированного города не одно жалкое, печальное, трагическое, но и то, что составляет неот’емлемые черты здоровой жизни. Он видел не только хлебные очереди худосочных, плохо одетых людей, не только вросшие в снег, давно брошенные средь путей трамвайные вагоны или окаменевших на морозе мертвецов...
Нет, он встречал также группы бодрых рабочих, — от стариков до подростков, — спешивших на фабрики и заводы, или большие отряды сильных девушек с краснощекими лицами: это группы фронтовых санитарок, медицинских сестер или несущих боевую службу с винтовкой, с гранатой в руке, — это отряды русских героинь. Вот прошел уверенным маршем батальон бравых красноармейцев, штыки их сверкают, снег под ногами скрипит. Вот крепко сколоченный отряд моряков в черных бушлатах, в брюках навыпуск, широкоплечие, с задорными лицами, на винтовках вместо штыков стальные ножи. От молодцов веет отвагой и силой. Мчатся автомобили, их много — грузовики, легковые. Они окрашены в белый цвет, утыканы елочками, иные простреляны пулями или повреждены снарядами, — они мчатся с фронта и на фронт. Движется обоз на сытых конях: везут мясо, мешки с мукой, целые поленницы дров. По всему городу многие тысячи жителей расчищают тротуары, дороги, вывозят снег из дворов. Возле «Дома книги», что против Казанского собора, пожилой художник, тепло одетый в лопарские унты и малицы, пишет на морозе масляными красками перспективный вид Невского с погоревшим Гостиным двором. Его мольберт окружен детворой. Шумной ватагой спешат в школу подростки-ремесленники в форменной одежде. Павлик с интересом посмотрел им вслед. Все учреждения открыты, занятия идут полным ходом. Вот афиша — завтра большой концерт в Филармонии. Павлик недавно был в оперетке, иногда бывает в кино. На зрелищах всегда масса народу.
Значит, город живет и дышит, и дает о себе знать, вопреки жесточайшей блокаде. Да здравствует жизнь!..
VII
Мать Павлика хорошая хозяйка, у нее были кой-какие запасы. Но время не ждало, запасы подходили к концу. У Павлика все сильней и сильней становилось чувство голода.
Правильно сказано: «Голод не тетка». Оголодавший человек способен чорт знает на что. Павлик это испытал на себе.
Дело было так. Пошли они с сестренкой в папину столовую, чтоб принести домой обед. У папы выходной день, мама хворала. Время клонилось к вечеру. В столовой чадно, дымно, холодно и довольно темновато, кой-где коптят керосиновые лампочки. За отдельными столиками, накрытыми старыми газетами, сидят в шубах, в шапках обедающие. У многих мертвенно - восковые лица со втянутыми щеками или, наоборот, одутловатые.
Очередь берущих на дом тянется в кухню через коридор, через всю столовую. Очередь нервничает, ведет себя слишком шумно, всяк выискивает случая придраться к другому, оскорбить его.
Павлик удивлен: люди это или животные? Но вот он и сам, очутившись в потоке враждебных настроений, тоже начинает злиться на своих бранчливых соседей и на свою судьбу. Какого-то подслеповатого старика, отдавившего ему ногу, он молча тычет боксом в бок. Старик оборачивается, орет:
— Ах ты, хулиган! Вышвырните его к чортовой матери!
В защиту мальчика вдруг прозвучал сзади него примиряющий, какой-то по-особому бодрый голос:
— Все в порядке! И хулиганов здесь, гражданин папаша, нет. А есть несчастные люди.
Это говорил краснобородый присадистый человек со здоровым, чисто вымытым лицом и в опрятном полушубке.
— Вот я, например, печник и стою за обедом не для себя, а для одной несчастной образованной старушки. И браниться здесь нечего, друг друга оскорблять. Эх, нервенные какие все стали, на себя не похожи.
— Вам хорошо рассусоливать-то, — скрипит простуженным голосом дама в криво надетой шляпке, щеки и лоб у нее донельзя прокоптели, а нос хорошо отмыт. — Вы, печники, эвота как с нас дерете…
— Гражданка, я с вас, кажется, не драл. Ну так и не высказывайте своих предсказаний... И все в порядке.
На него со всех сторон закричали.
— Все в порядке, — щуря улыбавшиеся, веселые глаза, повторил печник. — Это нервенность в вас кричит. Блокада! Вот, скажем, к примеру, завалился в дымоходе кирпич, и сразу весь дым в комнату вдарил. От него захлебнуться можно и на тот свет сыграть, ежели не открыть фортку. Вот что есть блокада. И все в порядке!
Соседи бросили перебранку, стали прислушиваться к словам краснобородого.
— А я вот и в блокаде без всякого уныния живу. Дако-сь наплевать! Через это здоров. Как-то, летом еще было дело, иду по берегу Невы возле Троицкого моста. А в небесах стервятники летают, зенитки наши пукают. С лодки двое молодцов кричат мне. Я подошел. Парень говорит: «Ты, красная борода, когда ни то выигрывал по государственному займу?» — «Было дело», — говорю. — «Ну так садись в лодку, авось еще выиграешь». Я сел. А бомба со стервятника к-э-эк хлобыснет в Неву недалеко от нашей лодки! Сразу вода фонтаном. Мы на веслах туда, глядим: рыбин с сотню вверх брюхом плавают, парень говорит мне, зубы скалит: «Видал выигрыш?» Мы насобирали рыбы оглушенной пуда три. И на берег голодающим рыб с десяток выбросили. И все в порядке... Или, допустим, так...
Но Павлик уже не слушал, он ужасно проголодался. Взял у Верочки посуду и под злобные окрики пролез в кухню к знакомой заведующей Анне Ивановне. Она в проходной комнате рядом с кухней развешивала продукты.
— Ах, Павлик! — встретила она мальчика. — Побудь, дружок, тут, покарауль, чтоб не стащили чего-нибудь, всякие тут шляются... А я на одну минутку...
— Не беспокойтесь, Анна Ивановна, покараулю, — сказал Павлик, и у него, при виде большой миски с сахарным песком, сразу накатилась слюна, как у Азора. Он схватил столовую ложку, поддел стогом сахарного песку и в рот. Еще поддел и в рот... Вкусно... и этакая сладость. Еще поддел и в рот... Проглотил из графина воды, и все в порядке!
Вошла хозяйка.
— Все в порядке, Анна Ивановна! — браво отрапортовал Павлик, но голос его сфальшивил.
Он подумал про себя: «Вот, негодяй, прохвост». Руки его дрожали, лицо горело от стыда.
Второе преступление, еще более тяжелое, произошло с ним на обратной дороге. Путь лежал мимо Инженерного замка, затем Марсовым полем вдоль неширокой канавки. Он шагал по-мужски, Верочка за ним вприпрыжку. Анна Ивановна наложила им в кастрюлю густой пшенной каши, а сверху полила маслом. Каша горячая, от нее шел вкусный теплый парок. Павлику до смерти хотелось есть, он весь день был голоден. Да и ночью чувствовал неутолимый голод. Ночью ему не спалось. Он представлял себе накрытый стол, на нем всевозможные закуски: балыки, анчоусы, шпроты, крабы, сыр. Павлик все это, не торопясь и смакуя, поедает. И чем больше ест он, тем сильней начинает страдать от голода. Потом слоеные горячие пирожки стал есть, они тают во рту, рассыпаются. Затем блины, хорошо прожаренные в масле, затем горячий-горячий кофе с большим-большим сахаром и густыми сливками. Ну, конечно, трех сортов торты, особенно вкусен жестковатый, прослоенный шоколадом торт «Микадо» из кондитерской «Норд» с Невского.
Обо всех этих вкусностях Павлик рассказывает на ходу Верочке. Оба облизываются, глотают слюни.
— Я за все это продал бы сатане душу, как пан Твардовский в каком-то романе, — говорит Павлик. — Впрочем, к чорту все эти кофеи с тортами, я бы лучше самых жирных щей с’ел — со свининой, кислой капустой да чесночком... Восемь тарелок с’ел бы...
И вдруг... Вдруг по всему городу завыли неугомонные сирены, а из репродуктора закричали: «Воздушная тревога, воздушная тревога!» Проклятые сирены, кто их только выдумал! Они наполняют все существо человека необ’яснимым унынием, они высасывают душу.
Дети побежали. Было темно. Визгливый вой сирен то усиливался, то ослабевал. И Павлику показалось, что весь Ленинград заплакал.
— Слышишь, как плачет город! — бросил он спешившей за ним сестренке.
— Да... Ему сейчас будет больно. Его будут разрушать.
Нет, город не плакал. Город-герой звал к защите, к мщению. И вот загремели наши зенитки. С неба стали доноситься отдаленные звуки налетающих бомбовозов. Они жужжали, как гигантские шмели.
— Летят, — сказал Павлик. — Побежим, спрячемся в щель.
Они припустились по маленькому через канаву мосту в соседний сквер. По Марсову полю тоже бежал народ: зенитки гремели близко, осколки от их снарядов шлепались то здесь, то там. Вот за Невой, левей Петропавловской крепости, гулко грохнуло, еще и еще, и вскоре там показалось пламя.
Вдруг воющий ужасный звук: с неба, где-то близко, падала бомба, за ней другая, третья. Раз за разом раздались невдалеке три оглушительных удара в землю, три взрыва. Вся почва трижды сильно содрогнулась. И при вспышке зарева бегущим детям почудилось, что вблизи них все дома с грохотом и треском рушились, а деревья, подпрыгнув, легли набок. Дети вбежали в щель. Там никого не было.
— Это у нас, — сказал, дрожа, Павлик. — Наш дом разрушен.
У Верочки задрожали щеки, вот-вот расплачется. Еще раздались два сотрясающих удара в землю, как раз в стороне квартиры Павлика.
— Вот это у нас, пожалуй, — едва передохнув, пропищала Верочка, по ее щекам струились слезы. — Мама, ма-а-мочка... — захлюпала она.
Павлик сопел. Согревал озябшие руки возле теплой еще посуды с кашей.
— Я ужасно есть хочу, — раздраженно сказал он, не обращая ни малейшего внимания на слезы Верочки. — Ежели я сейчас же не с’ем всю эту кашу, я умру.
— Что ты, Павлик... Зачем ты так страшно говоришь?
— Умру, умру... От голода умру. И ты умрешь, потому что мы дураки. Давай с’едим!
— Что ты, Павлик! А как же мама с папой? — прошептала Верочка и посморкалась в платок. — Нет, я не буду.
Павлик хотел сказать: «Мама с папой, вероятно, убиты», — однако смолчал. А что, если, действительно, родители погибли? Душа мальчика стала холодной и бесчувственной, как ледяная глыба: ощущение непереносимого голода подавляло в нем все человеческие порывы. Не отдавая себе отчета и не в силах совладеть со своим своевольным языком, Павлик выпалил:
— Их, может быть, не убило, а засыпало. А вот нас убьет!
— Врешь, нас не убьет. Мы в щели.
— Убьет, — сказал убежденно Павлик. — Обязательно убьет. И каша пропадет зря. Пока живы, давай есть. Он открыл судок, запустил руку в теплую кашу и набил ею полон рот. Ему теперь ни капельки не было жаль ни отца, ни мать.
Верочка истерично завизжала: «Не смей, не смей!» — и со всех сил два раза ударила брата кулаком в ухо. Павлик чуть не подавился кашей. Он сразу отрезвел, пришел в себя. И чувство голода в нем исчезло. Его охватил жгучий стыд.
Бомбежка кончилась. Отбой. Перегоняя пешеходов, брат с сестрой бежали домой вприпрыжку. Пожары один за другим постепенно затихали.
Лишь были слышны не прекращавшиеся ни днем, ни ночью глухие артиллерийские раскаты. Это наш фронт застращивал, громил врага.
И вдруг из-за угла отец с фонарем.
— Малыши! Целехоньки?
— Папочка! — и дети бросились к нему на шею. — А у нас как?
— Все благополучно. Правда, порядком-таки пострадал третий дом от нас, но в нашем доме даже стекла целы, воздушная волна скользом как-то прошла. А в том доме человек тридцать убито, говорят. А вы где спасались?
— Мы в щель залезли, в саду, — сказала Верочка. — Нам с Павликом жутко хотелось есть. Только мы к каше и не прикасались. Совсем, совсем не трогали, ни я, ни Павлик.
Брат взглянул на сестру с великой благодарностью. К его горлу подступил комок, скулы задрожали, но он пересилил себя, от слез сдержался. Он ласково сжал сестре руку и тихо прошептал:
— Спасибо.
Оба этих неприятных для него происшествия мальчик переживал мучительно и долго.
VIII
Однажды приятель Павлика, сын старшего дворника Ваня Ездаков, сказал ему:
— И чего ты дома зря околачиваешься? Поступай к нам в ремесленное.
— А что там делать?
— Как что? Ремеслу учиться будешь.
— Какому?
— Как — какому? Да какому хочешь. Можешь по слесарной или токарной специальности, можешь на столяра учиться, на квалифицированного кузнеца, на сапожника либо на портного. Или на строительного десятника... Да на кого пожелаешь. К чему у тебя склонность, туда и определишься. Тебе сколько лет?
— Через четыре месяца тринадцать.
— Возьмут. Ты здоровый, ты на вид старше, тебе все пятнадцать можно дать.
Павлик внимательным взором уставился на Ваню Ездакова: темная со светлыми пуговицами шинель, по талии широкий кожаный пояс, на голове форменная фуражка со значком.
— Училище было закрыто, а теперь опять новый набор. Есть дают там, обед хоть и паршивый, но все-таки. Хлеба полагается порядочно, — нахваливал Ваня. — Иные ребята деньги зарабатывают, сверхурочные заказы на оборону. Я, например, в столярном цехе патронные ящики делаю, вчера выработал семнадцать рублей. А кроме того, нас, кажется, эвакуировать хотят, все училище. Ремесленники рады.
— Эвакуировать? — живо переспросил Павлик, и глаза его заблестели. — Куда же?
— Да еще не выяснено. То ли на Урал, то ли на Волгу.
— На Урал? На Волгу? И туда и туда хорошо.
Павлик очень любил путешествия, он бывал с отцом в Москве, ездил по Волге и Каме до Молотова, прочел не мало книг, где описывались разные путешествия. Он сказал с притворным раздумьем:
— Пожалуй, я непрочь в ремесленное поступить, вот не знаю, как родители. Папа на инженера меня хотел. А мне самому, по правде-то сказать, хотелось бы военным быть.
— Ха, военным... — присвистнул Ваня, — до военного у тебя еще нос не дорос. Какие мы с тобой военные? Мальчишки.
— А что ж, — обиделся Павлик. — Разведчиком разве я не мог бы быть? Мало ли мальчиков в разведчиках и в партизанах? Разве ты не читаешь газеты? Мальчики наших с тобой лет на фронте — сделай одолжение.
Ваня Ездаков посмотрел на товарища с некоторым пренебрежением и вразумительно, как взрослый, проговорил:
— У нас, рабочих, за верстаками да в цехах— тот же фронт. Не будь военных заводов, чего фронту делать? И мы с тобой, Пашка, на трудовом-то фронте, пожалуй, полезнее, чем на войне... Мно-о-го полезнее, — добавил он убежденно. — Да и отец то же самое скажет тебе.
Павлик ответил:
— Ты, Ванька, прав. Ишь ты, чорт, рассудительный какой. А после войны можно и на инженера двинуть. Ну, да об этом еще рано толковать. Может, и ты инженером будешь.
— А что ж инженеры, — с горячностью возразил Ваня Ездаков и, чтоб форснуть пред Павликом, закурил папиросу. — Кончишь ремесленное, с годик поработаешь на заводе, да, глядишь, и мастером заделаешься. Тысячу, а то и две будешь в месяц выколачивать. Да другому инженеру и во сне не приснится этакий заработок...
В тот же вечер Павлик имел разговор с родителями. Мать отнеслась к затее сына неодобрительно. Отец подумал и сказал:
— Ну, этот вопрос так, с бацу, решить трудно. А в общем что ж... Ремесло за плечами — вещь чудесная, в особенности по нашим тяжелым временам, когда общеобразовательные школы почти бездействуют. Вот ужо я побываю в ремесленном да посмотрю, как и что.
Поздно вечером Ваня Ездаков принес Павлику в подарок красивую шкатулку под красное дерево, на верхней крышке резной незатейливый орнамент.
— Неужели сам делал? — спросил Ваню отец Павлика.
— Безусловно, — с гордостью ответил тот. — Ведь я второй год работаю. Думаю быть хорошим краснодеревцем. Говорят, большая недостача в них.
Шкатулка переходила из рук в руки, все любовались тонкой работой мальчика. В глазах Павлика и в складке губ появилось выражение хорошей зависти, и ему захотелось быть настоящим мастером, чтоб тоже выпускать нужные и приятные людям вещи.
Сели ужинать. Горела скудная керосиновая лампочка, топилась широкая, присадистая буржуйка, на ней варилась жидкая кашица, а в котелке кипело какое-то вонючее хлебово для Азора. С тех пор, как Павлик выклянчил в соседней столовой разные для собаки отбросы, Азор стал глядеть на жизнь веселей, реже вздыхал и на прогулках носился, как угорелый.
Хитрый Павлик притворно-грустным голосом сказал:
— Вот только беда: ремесленное училище будут эвакуировать...
— Вот видишь, вот видишь, отец! — воскликнула Марья Павловна. — Да я Павлика ни в жизнь не отпущу...
А Верочка, прислушавшись, всплеснула руками и заголосила:
— Павлик, Павлик!.. Неужели ты уедешь?
Отец сказал:
— Хм... Эвакуация... Да это же чудесно! Вероятно и наше учреждение будет эвакуироваться... Мне директор говорил.
— Куда, папочка, не на Урал? — и Павлик, задав вопрос, затаил дыхание.
— Не знаю, — ответил Дмитрий Петрович.
Подкрепивший свои силы пес по очереди подходил к своим, клал каждому на колени лапу. Отец погладил Азора, стал стыдить его:
— Говори «спасибо»... Что ж ты, такой большой оболтус, а до сих пор не научился по-человечьи говорить?
Азор виновато поджал уши и застучал в пол хвостом.
Ваня Ездаков, погладив Азора, сказал:
— Я очень интересное об’явление видел на заборе.
— Их тысячи, — перебил его Павлик. — Меняю; меняю, меняю... Английский рояль меняю на продукты. Новый отрез шевиота меняю на масло и рис...
— Да... А это об’явление я списал. Оно насчет собак. Вот... — и Ваня, вынув записную книжку, стал читать:
«Стой! Вниманию граждан, любителей бессловесных тварей. Граждане, в текущий момент невозможно в городе содержать собаку. А я живу за городом и во имя животнолюбия беру собак на прокорм. Приводите ко мне по ниже указанному адресу собак, не старых и крупных. Мелюзгу не принимаю».
Все засмеялись. Павлику показалось, что улыбнулся и Азор.
На следующий день отец за обедом сказал:
— Ну вот... Был я в двух ремесленных. Порядок не плохой. Ребята толковые, старательные. Правда, у многих кожа да кости. Вот поэтому-то и хотят их эвакуировать всем составом. Во второй половине марта, пока Ладожское озеро не раздрябло. И, кажется, на Урал. Наше учреждение тоже на Урал переводится, решено и подписано, как говорится. И тоже в конце марта... Так что..— И он неожиданно добавил: — Так что, Павлик, послезавтра заберешь документы—и але-але в ремесленное. Довольно тебе бить баклуши-то.
Чрез неделю Павлик был уже в форменной одежде. Он поступил в слесарный цех. Для практики по первому делу учился он опиливать рашпилем и напильником чугунные бруски и пришабривать их к «идеальной» поверхности, т. е. к стальной выверенной плоскости, покрытой тонким слоем сурика, смешанного с жиром.
Так подрастающий Павлик в тяжелейших условиях блокады определил себя на путь прямой и верный, путь служения родине своей.
1943