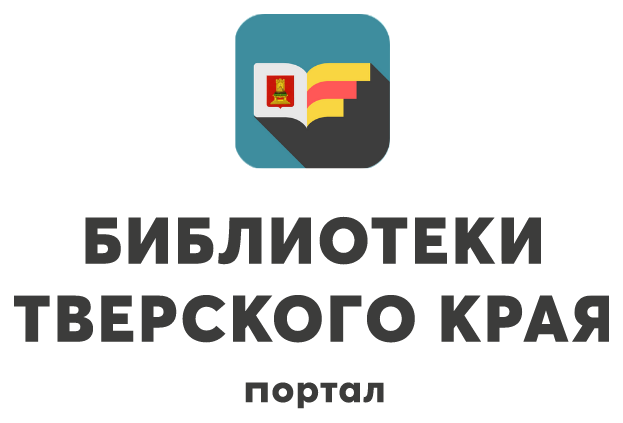Бежецкая центральная библиотека им. В.Я. Шишкова в социальных сетях:
«Есть Бог, есть мир»
15 апреля - день рождения Николая Степановича Гумилёва, русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, прозаика, драматурга, переводчика и литературного критика, путешественника, африканиста.

«Гумилёв Николай Степанович» - работа библиотеки с именем поэта.
Предлагаем вашему вниманию статью «Есть Бог, есть мир» Татьяны Альбрехт, историка, театроведа, исследователя творчества Н.С. Гумилёва, редактора издательства «АСТ».
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Эта последняя строфа из прекрасного стихотворения Николая Гумилёва «Фра Беато Анджелико», входящего в цикл итальянских стихов.
Мне кажется, что эти строки – в определенном смысле credo Николая Степановича. Конечно, у него есть ранее стихотворение, которое так и называется:
Откуда я пришел, не знаю…
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.
Когда исполнюсь красотою,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грез.
Но я живу, как пляска теней
В предсмертный час большого дня,
Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня.
Мне все открыто в этом мире —
И ночи тень, и солнца свет,
И в торжествующем эфире
Мерцанье ласковых планет.
Я не ищу больного знанья
Зачем, откуда я иду.
Я знаю, было там сверканье
Звезды, лобзающей звезду,
Я знаю, там звенело пенье
Перед престолом красоты,
Когда сплетались, как виденья,
Святые белые цветы.
И жарким сердцем веря чуду,
Поняв воздушный небосклон,
В каких пределах я ни буду,
На все наброшу я свой сон.
Всегда живой, всегда могучий,
Влюбленный в чары красоты.
И вспыхнет радуга созвучий
Над царством вечной пустоты.
Оно, как видите, во многом перекликается с приведенным выше четверостишием. В обоих заключена одна и та же идея – любовь к миру дольнему, его красоте и многообразию и активная жизненная позиция при целомудренном отношении к неведомому.
Когда-то давно, когда я только изучала более внимательно, чем это принято в школе, литературу Серебряного века, когда формировалось мое поэтическое credo, я задумалась: почему именно Гумилёв, почему из всех авторов той, столь богатой яркими своеобразными талантами эпохи (да и не только той), я выделила именно его.
Конечно, тут дело в удивительном сочетании и гармонии поэтических и человеческих качеств Николая Степановича. Еще тогда, когда литературы о нем практически не было, я прочитала «Жизнь Николая Гумилёва», из разрозненных и во многом противоречащих друг другу воспоминаний у меня сформировался образ человека и поэта, чрезвычайно мне импонирующий.
Но чем именно?
Сформулировать ответ было непросто, т. к. получалась какая-то банальщина, ничего толком не объясняющая. Но я все-таки попыталась.
Разгадка не только в человеческих качествах – огромном чувстве собственного достоинства, внутренней свободе, смелости, честности, гордости, в прекрасной самоиронии, в том, что Николай Степанович был мужчиной в самом высоком смысле этого слова. Все-таки нам не дано отправиться в прошлое, чтобы убедиться в том, что нарисованный воображением образ соответствует оригиналу.
Но есть еще и стихи, проза, драматургия, статьи – все его богатейшее творческое наследие. А понять автора можно только через его творения. И образ, создаваемый этими стихами, не противоречит образу, явленному нам через биографию поэта и воспоминания о нем.
Впрочем, это не удивительно.
Николай Степанович в этом плане был согласен с Уайльдом и тоже считал, что жизнь тоже нужно творить, как картину или стих. Недаром он говорил ученикам: «Прежде, чем в стихах, поэзия должна воплотиться в самом поэте и превратить его жизнь в произведение искусства».
Гумилёв так и поступал. Сама его жизнь напоминает авантюрный роман или поэтическую драму. Из всех интересных личностей эпохи беллетристы предпочитают именно его и спекулируют именно на его биографии.
И эта насыщенная яркая жизнь воплощалась в таких же стихах. Ведь одним из главных творческих принципов Николая Степановича был такой: выдавать читателю только те векселя, по которым он мог расплатиться лично.
Впрочем, даже не это главное. Блок тоже шел в творчестве от себя, хоть и утверждал, что «слышит стихи» прежде, чем записать их.
Главное, пожалуй, то самое credo Гумилёва, о котором я упоминала выше.
Ведь его поэзия резко отличается от поэзии других представителей Серебряного века не только т.н. экзотичностью тем, образов, не только любовью к далеким эпохам и странам. Этим как раз «грешили» практически все (хотя никто настолько не углублялся в дебри Африки или глубины Востока).
Поэзия Гумилёва отличается солнечной ясностью и той самой кристальностью, что была так ему дорога у Пушкина.
Русская литература второй половины XIX – начала ХХ века – явление довольно-таки унылое.
Не по отсутствию талантов. Их как раз было в избытке, а по так сказать, идейной направленности. Она практически вся удивительно страдательная, печальная или мрачная. Даже светлый Тургенев не смог уйти от этого, даже лучистая поэзия Фета и нежность Тютчева – это песни осени, не ожидающей следующей весны. Даже наши комедии (если не считать легких, ни на что не претендующих водевилей) – в основном это не комедия, а злая пародия или сатира. Ну а о мрачности Достоевского или Щедрина и говорить не стоит, как и о безрадостной и социально ангажированной прозе реалистически-народнического толка. Даже бесконечно любимый мной Чехов по сути своей печален, как Гамлет, и печаль эта не знает исхода. Что уж говорить о таких явлениях, как Андреев и Сологуб.
Именно поэтому оригинальный и яркий талант Саши Черного стоит совершенным особняком во всей литературе начала ХХ века.
Очень хорошо об этом написал Евгений Вагин: «Так и русские писатели, почти все без исключения, стонут в своих произведениях. Не столько радуются жизни и миру, сколько — проклинают, обличают, жалуются и тоскуют… Русская проза прошлого века — это бесконечная галерея «мертвых душ», «униженных и оскорбленных», «лишних людей», терзающих себя и читателей вопросами: «кто виноват?», «что делать?»…
«Солнцем русской поэзии» справедливо называли Пушкина: его всеобъемлющий гений действительно можно назвать солнечным. Но вот закатилось солнце, и небосвод русской словесности на многие десятилетия покрылся свинцовой тяжести облаками. Писал В. Розанов: «Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя». Едва ли не единственным исключением на этом безнадежно сером фоне было явление К. Леонтьева — в прозе которого видим необычное для русской литературы чисто языческое упоение красотой…
Литература русского модернизма стала острой реакцией на эту обязательную «гражданскую» унылость: то были поиски новых ощущений и новой тональности; прежде всего — в поэзии. Всем своим культурным стилем литература начала века отличается от предшествовавшей.
Однако уже изначально она оказалась зараженной тонкими ядами декаданса, и эта отравленность с каждым годом становилась все очевиднее. Н. Бердяев, один из самых известных деятелей той эпохи, указал на ущербность своих современников: он писал (в «Русской идее») об «элементах упадочности в настроениях культурного слоя» — в частности, в поэзии русских символистов».
И на фоне этого Гумилёв с его чистой и ясной любовью к миру, с его принципом не жаловаться, не проклинать, упоением красотой и многообразием мира, с его целомудренностью по отношению к тайнам бытия.
Еще в одной из ранних критических статей «По поводу «салона» Маковского», опубликованной в №6 журнала Театра Литературнохудожественного общества за 1909 год он писал:
«Искусство является отражением жизни страны, суммой ее достижений и прозрений, но не этических, а эстетических. Оно отвечает на вопрос, не как жить хорошо, а как жить прекрасно. Но тут ему представляются два пути. Первый более легкий и эффективный — это стремление к утонченности, к переживаниям новым во что бы то ни стало, декаданс. Идущие по этому пути сперва совершенствуются в области формы, старое содержание облекают в новую для него изысканность, но потом наступает переворот. Чтобы дразнить притупленные нервы, недостаточно ликеров, нужен стоградусный спирт. Отсутствие формы начинает волновать больше, чем самая утонченная форма.
Начинает казаться, что линии уже даны в самих красках, теряется чувство грани между элементами искусства, и преждевременный синтез становится в лучшем случае гротеском. Достижения художников этого разряда не двигают вперед наше художественное сознанье — они только частный случай искусства, случайный каприз, отдых на дороге.
Второй путь — ренессанс. Наряду с декадентами, остро сознавшими свою неудовлетворенность прошлым, но не смогшими найти из нее выхода, появляются новаторы, которые идут к будущему, имея за собой весь искус старины. Как Микула Селянинович, близки они к духу земли; как Вольга Святославич, живут стремленьем к далеким и сказочным странам. Их можно отличить от декадентов уже тем, что их творчество богато приемами, разнообразно по темам, является микрокосмом и органическим целым, способным производить живое потомство».
Именно на этом перепутье и возникло у Николая Степановича принципиальное расхождение с символистами. Именно из-за выбора пути к ренессансу появился акмеизм.
Ведь акмеизм, по меткому замечанию Надежды Мандельштам «был не чисто литературным, а, главным образом, мировоззренческим объединением».
Это абсолютно согласуется с позицией Осипа Мандельштама, писавшего в программной статье:
«Акмеизм не только литературное, но и общественное явление в русской истории. С ним вместе в русской поэзии возродилась нравственная сила»; «Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до гражданина; но есть более высокое начало, чем “гражданин”, — понятие “мужа”»; «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу…»
И насколько это перекликается с мыслями Гумилёва, высказанными в статье «Наследие символизма и акмеизм»:
«Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки несоизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все явления братья.
Мы не решились бы заставить атом поклоняться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть — занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что же будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и, во всяком случае, не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению».
Именно отсутствие «нейрастении» в любых ее проявлениях особенно привлекательно в поэзии Гумилёва. Ведь у его коллег ее в избытке.
Тот же сладкозвучный Блок – на какие едва ли не кощунственный стихи вдохновила его Италия, «Флоренция-Иуда». А каким неподдельным упоением этой землей наполнены «итальянские» строки Гумилёва. Например, «Болонья»:
Нет воды, вкуснее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
В лунной мгле разносятся признанья,
От цветов струится благовонье…
Даже жесткое стихотворение о Городе Волчицы не проклинает, не стенает,а просто, ясно и мужественно раскрывает жестокий характер Рима:
Волчица, твой город тот же
У той же быстрой реки.
Что мрамор высоких лоджий,
Колонн его завитки,
И лик Мадонн вдохновенный,
И храм святого Петра,
Покуда здесь неизменно
Зияет твоя нора,
Покуда жесткие травы
Растут из дряхлых камней
И смотрит месяц кровавый
Железных римских ночей?!
И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных,
Косматых звериных лап.
А как интересно сравнить отповедь Блока XIX веку из его «Возмездия»:
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей — пополам!),
Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, — а просто дам…
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела…
А человек? — Он жил безвольно:
Не он — машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда…
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, —
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там — распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там — пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там — вместо храбрости — нахальство,
А вместо подвигов — «психоз»,
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздко́й обоз
Воло́чит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста — рог Роланда
И шлем — фуражкой заменя…
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинать.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал — да жестко спать…
С характеристикой столетия, данной Николаем Степановичем в статье «Поэзия Бодлера»: «Девятнадцатый век, так усердно унижавшийся и унижаемый, был по преимуществу героическим веком. Забывший Бога и забытый Богом человек привязался к единственному, что ему осталось, к земле, и она потребовала от него не только любви, но и действия. Во всех областях творчества наступил необыкновенный подъем. Люди точно вспомнили, как мало еще они сделали, и приступили к работе лихорадочно и в то же время планомерно. Таблица элементов Менделеева явилась только запоздалым символом этой работы. — «Что еще не открыто?» — наперебой спрашивали исследователи, как когда-то рыцари спрашивали о чудовищах и злодеях, и наперебой бросались всюду, где оставалась хоть малейшая возможность творчества. Появился целый ряд новых наук, прежние получили неожиданное направление. Леса и пустыни Африки, Азии и Америки открыли свои вековые тайны путешественникам, и кучки смельчаков, как в шестнадцатом веке, захватывали огромные экзотические царства. В недрах европейского общества Лассалем и Марксом была открыта новая мощная взрывчатая сила — пролетариат. В литературе три великие теченья, романтизм, реализм и символизм, заняли место наряду с веками царившим классицизмом».
Именно этим радостным ощущением открытий и свершений наполнена замечательная поэма Гумилёва «Открытие Америки», второе стихотворение из цикла «Капитаны». Именно с этим ощущением он сам шел в неизведанные области Африканского континента, открывал для России и всего мира новые сокровища культуры.
Что же касается целомудренности – это понятие чрезвычайно важно для Николая Степановича. Целомудренность многогранна. Есть целомудренность мысли, поступков, творчества, отношения к себе и окружающим, к миру.
Гумилёв был целомудренным творцом. В его стихах, даже автобиографических, как «Пятистопные ямбы» или «Эзбекие» нет и невозможно представить чрезмерной интимности, кокетства, заигрываний с читателем.
Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась... и ты.
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.
А в статье «Жизнь стиха» он пишет: «Чистота — это подавленная чувственность, и она прекрасна, отсутствие же чувственности пугает, как новая неслыханная форма разврата.
Нет! возникает эра эстетического пуританизма, великих требований к поэту, как творцу, к мысли или слову — как материалу искусства. Поэт должен возложить на себя вериги трудных форм (вспомним гекзаметры Гомера, терцины и сонеты Данте, старо-шотландские строфы поэм Байрона) или форм обычных, но доведенных в своем развитии до пределов возможного (ямбы Пушкина), должен, но только во славу своего Бога, которого он обязан иметь. Иначе он будет простым гимнастом».
Этот «эстетический пуританизм» стихов Николая Степановича исходит из определения поэзии, которое он дал однажды: «Поэзия для человека — один из способов выражения своей личности, и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям».
Отсюда его культ Слова, выраженный полнее всего в одноименном стихотворении.
А вообще взгляд Николая Степановича на искусство чем-то близок к эллинскому понятию «золотого сечения» и меры. Замечательно это выражено в статье 1913 года «Некоторые течения в современной русской поэзии»:
«Метод приближения имеет большое значение в математике, но к искусству он неприложим. Бесконечное приближение квадрата через восьмиугольник, шестнадцатиугольник и т.д. к кругу мыслимо математически, но никак не artis mente. Искусство знает только квадрат, только круг. Искусство есть состояние равновесия прежде всего. Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрег этими законами искусства. Символизм старался использовать текучесть слова... Теории Потебни устанавливают с несомненностью подвижность всего мыслимого за словом и за сочетаниями слов; один и тот же образ не только для разных людей, но и для одного и того же человека в разное время - значит разное. Символисты сознательно поставили себе целью пользоваться, главным образом, этой текучестью, усиливать ее всеми мерами, и тем самым нарушили царственную прерогативу искусства – быть спокойным во всех положениях и при всяких методах.
Заставляя слова вступать в соединения не в одной плоскости, а в непредвидимо разных, символисты строили словесный монумент не по законам веса, но мечтали удержать его одними проволоками «соответствий». Они любили облекаться в тогу непонятности; это они сказали, что поэт не понимает сам себя, что, вообще, понимаемое искусство есть пошлость... Но непонятность их была проще, чем они думали.
За этой бедой шла горшая. Что могло поставить преграды вторжению символа в любую область мысли, если бесконечная значимость составляла его неотъемлемый признак?»
Статья хоть и посвящена проблемам символизма, его недостаткам и «бедам», но в самом ее начале Гумилёв выразил свое понимание искусства в принципе.
А понимание поэзии, по-моему, лучше всего выражено в одной из поздних статей «Читатель»:
«Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи
в Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, — он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы».
В некоторых воспоминаниях цитируется прекрасное высказывание Николая Степановича о поэте:
«Поэт — всегда господин жизни, творящий из нее, как из драгоценного материала, свой образ и подобие».
Именно это Гумилёв и сделал со своей жизнью. И даже его смерть, ранняя и такая несправедливая, как ни странно, вписывается в это его самое большое и яркое произведение – собственную биографию.
Впрочем, не об этом ли его замечательная «Волшебная скрипка», написанная за 14 лет до рокового августа?
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!